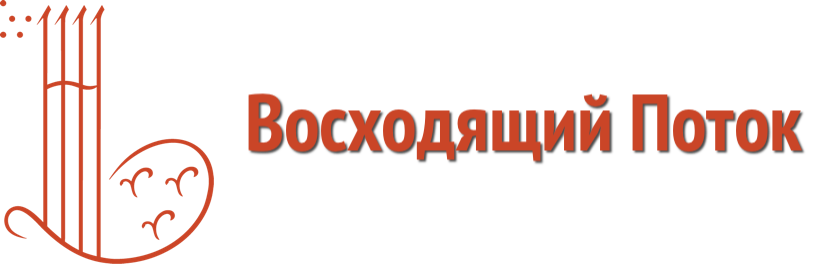Когда-то давно, в незапамятные времена, поэт и гражданин Николай Некрасов сочинял стихи про то, кому на Руси жить хорошо. Из них выходило, почти как и сейчас, что всем живётся среднехреново, но особенно плохо холопам, с которыми ихнее руководство в лице помещиков могло делать что хочешь. Платон Бережков всегда считал, что хуже холопской участи может быть только участь ребёнка. Действительно, что может быть хуже – ты ничего не можешь, ничего не знаешь, и потому во всём зависишь от родителей, а точнее, от их настроения. Или от того, какая вожжа в этот раз угодила им под воображаемый хвост. В общем, собственное детство не казалось той счастливой порой, о которой тогда было принято петь в детских песнях и писать в газетах.
Родители Платону достались средние, можно сказать, совсем не звери. Во всяком случае, они не пытались выбрасывать пятилетнего Платона вниз головой с пятнадцатого этажа, как это иногда сейчас случается. Да и не было ни одной пятнадцатиэтажки в райцентре, где проживало их семейство. Но родители тем не менее воспитывали маленького Платона, уделяя этому внимание и время. Примерно с пяти лет его начали ставить в угол. Это было почти по Ганди – этакое ненасильственное воспитание, которое только унижало, но не оставляло на теле рубцов от папиного ремня. Платон, в силу того, что ничего не знал о величественности гандийских идей, не умел оценить великодушие отца и часто не понимал, зачем отец снова гонит его в угол.
Наказание стоянием могло вызываться самыми разными причинами – либо детскими действиями Платона, либо их отсутствием, а порой – как казалось мальчику, всё той же пресловутой вожжой. У стояния были свои правила. Например, приседать на корточки запрещалось. Отец лично следил за этим, периодически отрываясь от телевизора, вставая с дивана и заглядывая в Платонов угол. Ковырять обои никто не запрещал, поэтому Платон и занимался этим от скуки. Отец, однако, хотел добиться большего воспитательного эффекта и потому нередко задавал сыну непростые задачи.
— Вот постой и подумай, почему тебя сюда поставили, – строго наставлял отец, уходя от ответственности за свои действия через использование в речи множественной формы от третьего лица. – А когда додумаешься, подойдёшь и мне скажешь!
После этого отец начинал заниматься своими делами, а маленький Платон, нервно ковыряя обои, пытался придумать подходящий ответ. Поначалу ответы приходили быстро. Тогда он радостно бежал к папе и докладывал, что, наверное, это из-за того, что он разбросал игрушки.
— Иди, подумай ещё, – как-то равнодушно отвечал отец, и Платон, понурившись, возвращался в свой угол. Правильный ответ сулил освобождение, но угадать его было почти невозможно. Платон честно пытался сделать это, подбегая с новым предположением к отцу каждые пять минут, но задача никак не решалась. Когда отцу это надоедало, он разрешал мальчику покинуть угол. А с новым наказанием всё начиналось сначала. Постепенно Платон понял, что задача, задаваемая отцом, принципиально не имеет решения. Точнее, правильным ответом было бы сказать: папа, ты просто хочешь посидеть в тишине и одиночестве, поэтому и удаляешь меня с глаз долой. Но этот ответ пришёл в Платонову голову много лет спустя. Платон простоял в углу лет пять, не меньше. По крайней мере, большая часть его воспоминаний о своих детских годах в промежутке с пяти до десяти лет упирается в это бесконечное стояние. И неразрешимый вопрос о его причинах.
Когда, уже будучи взрослым, Платон поинтересовался о причинах такого своего воспитания, то отец сказал: «Я растил тебя в спартанских условиях, сынок». И не стал больше ничего объяснять. Может, и сам не знал. Платону хотелось спросить: «А нахрена, папа?» – но запоздалость и бессмысленность подобного вопроса была очевидной. Поэтому Платон как-то смирился с прошлым, стараясь не думать о нём хотя бы в трезвом виде. А когда случилось так, что Бережков и сам сделался отцом, то, повинуясь некоему внутреннему позыву, он стал приучать сына к трудным условиям человеческой жизни, обливая его холодной водой. Сынок не выдержал и заболел пневмонией, тогда Платон успокоился и бросил им заниматься.
И всё было бы хорошо, кабы не вопросы, на которые Платону так или иначе порой приходилось отвечать. Заданный вопрос нередко вызывал у Бережкова ступор и резкое торможение мозговой деятельности, сопровождавшееся ощущением тягостной безнадёги. Преодолевать эту умственную реакцию удавалось, но не всегда. Особенно бесили дзенские коаны, пусть даже и не к нему лично обращённые. Просто выводили из себя.
И ещё оставалось чувство неловкости и ощущение страха, если приходилось разговаривать по телефону в чьём-то присутствии. Мать-то тоже не теряла времени даром, и тоже воспитывала, как могла…