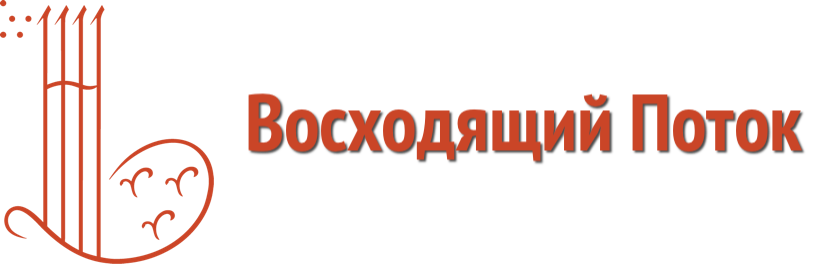Как известно, время не щадит никого. Досталось от него и Платону Бережкову. Вначале всё было неплохо – тело было крепкое, желание жить – сильное, и некий жеребячий задор заставлял Платона порой вытворять такое, что стыдно потом было вспоминать. Однако ближе к сорока задор сошёл на нет, прыти поубавилось, а тело стало стремиться к полноте и покою. Когда же время жизни Платона перевалило за сорок лет, то здоровье, которым раньше можно было хвалиться, начало таять, уступая место болезненному нездоровью. Но, слава Богу, и желание жить тоже ослабело, так что Платон относился к происходящему философски.
Философскому отношению способствовало и то, что люди вокруг тоже, как правило, не отличались богатырским здоровьем. А если уж говорить начистоту, то они просто мёрли как мухи. При этом многие из свежеиспечённых покойников жили на свете не намного дольше Платона. И вот как-то раз, аккурат после возвращения с очередных похорон, Платон Бережков почувствовал себя нехорошо. Как-то вдруг сжало грудь и сердце стало стучать в рёбра часто и тяжело. Платон на всякий случай прилёг. Ничего не изменилось. Сердце вело себя как чужой из одноимённого фильма ужасов, будто бы стремясь разорвать рёбра и мышцы и выскочить наружу, выплеснув вместе с собой бойкие фонтанчики крови. Стало ломить в груди и где-то внутри возникло ощущение того, что жить дальше, может быть, и не надо. Платон, однако, ещё не был готов к тому, чтобы предстать пред ясными очами Господа нашего. Поэтому он немного подумал, а потом принял лекарство, которое давненько хранилось в шкафчике на кухне и могло, помимо снижения давления, замедлить сердечный ритм. Через некоторое время действительно стало легче. Может, таблетки подействовали, а может, у взбесившегося ни с того ни с сего сердца кончился запал. Платон вытер со лба холодный пот и остался лежать, прислушиваясь к ощущениям в теле. Ощущения вроде бы были приличные. Платон осторожно встал и прогулялся до кухни. Ничего. «Ладно, – решил Платон. – Раз такое дело, будем жить дальше». Не успел он договорить, как сердце снова сорвалось в галоп. «А может, и не будем», – стоически подумал Платон, возвращаясь в горизонтальную позицию.
В последующие три дня Платоново сердце выкидывало фортели почище исламских террористов. То оно вело себя спокойно, а то начинало колотиться как бешеное. Таблетки, употребляемые Платоном, то помогали, то не очень. Наконец, после очередного сорокаминутного приступа, Платону показалось, что надо, может быть, обратиться к врачу. Тут же, правда, всплыли воспоминания о нескольких знакомых, которых «скорая» увозила из дома в больницу, а спустя некоторое время прямо оттуда они попадали на кладбище. Один знакомый врач прокомментировал ситуацию, заявив, что люди и должны умирать в больницах, а не дома, ведь больницы для того и построены… В общем, в больницу Платону совершенно не хотелось. Он решил, что неплохо для начала бы пройти какое-нибудь незамысловатое обследование, чтобы иметь представление о том, чего ему ждать от своего сердца и не пора ли уже подумать о завещании.
Платон жил не в пустыне, и хорошие знакомые у него имелись. Они и договорились об аудиенции, которую Платон должен был получить у главного врача городского кардиологического центра, а тот, в свою очередь, должен был принять все необходимые меры по проведению скорейшего обследования. Немного повздыхав, Платон побрился, помылся, оделся в чистое и поехал в ужасно дребезжащей маршрутке на заветную встречу. Сердце, кстати, уже вторые сутки вело себя прилично.
Кардиоцентр был памятником незатейливой фантазии советских дизайнеров: куб из бетона, испещрённый бойницами узких окон. Окинув его взором, Платон вздохнул и вошёл внутрь. Внутри было сумрачно. На лестнице, ведущей в холл, стояла женщина в белом халате и устало что-то выговаривала по телефону невидимому собеседнику. Было видно, как несладко ей приходится. Войдя в холл, Платон замер в некотором замешательстве – последний раз он посещал кардиоцентр двенадцать лет назад, по случаю, и его воспоминания несколько отличались от увиденного. Внутри бетонного куба как будто бы не было света. То есть он был, на улице светило солнце, но то, что попадало через окна в помещение, светом назвать было трудно. Скорее, это был белёсый сумрак, отдававший затхлостью склепа. На квадратных тумбах, расставленных вдоль стен, сидели люди. Выглядели они так, будто бы заблудились и устали искать дорогу, а потому сели и стали ждать то ли чуда, то ли неминуемого конца. Общая усталость и равнодушие прямо-таки висели в воздухе. Женщины в халатах, то и дело ходившие туда-сюда, ничем, по сути, не отличались от женщин и мужчин, сидевших на тумбах.
Ещё раз вздохнув, Платон отправился искать приёмную главного. Поплутав по коридорам – в них горели электрические лампы, но ощущение склепа от этого только усугублялось – Платон, наконец, обнаружил искомую дверь на третьем этаже. Приёмная – гласила табличка на двери. Платон приоткрыл дверь и сказал секретарше:
— А Эдуард Михайлович у себя?
— У него люди, – ответила та беззлобно. Платон аккуратно прикрыл дверь, решив подождать снаружи. Чтобы было веселей ждать, он стал расхаживать по коридору, разглядывая таблички с названиями кабинетов на дверях. Одновременно Платон пытался сочинить короткую, но красочную историю своих страданий. Бесцельно слоняясь в зоне видимости заветной двери, он обнаружил группу людей, сидящих в одной очереди и рассуждающих о насущном. Они ждали, когда их пригласят в кабинет, где исследуются аритмии. Платон понял, что это его собратья по несчастью, и прислушался. В очереди сидело шесть мужчин и одна женщина. Они говорили о том, как трудно бесплатно попасть на обследование. Датчиков, которые были нужны для этого исследования, не хватало, и очередь на их установку растянулась на полтора месяца. Что-то говорилось про внеочередное обследование, про то, что стоит пропустить день своей записи по любой причине и ты снова попадаешь в конец очереди… В общем, Платон решил всего этого не слушать. Вернувшись к двери приёмной, он продолжил ждать. А в уме его вдруг возникла картина, как он сейчас, в сопровождении главного врача, войдёт в диагностический кабинет на глазах у всех этих людей и сдвинет очередь назад ещё на один день. Из приёмной тем временем вышло два человека. Платон не двигался. Он вдруг ясно ощутил всю атмосферу безысходности, пронизывающую это место, и почувствовал, будто бы и сам уже замурован в этом склепе и подчинён его законам безнадёжного ожидания улучшений.
Дверь приёмной открылась, из неё выглянула секретарь:
— Можно заходить! – сказала она.
— Извините, но мне уже не нужно, – пробормотал Платон, спотыкаясь на ходу, но стараясь сбежать как можно быстрее. Коридоры, холл, ещё коридор, ещё холл, лестница, двери… На улице светило яркое апрельское солнце и воздух не был спёртым. Платон сделал вдох и зажмурился. «Нафиг это лечение, – сказал он сам себе. – Нафиг эти больницы. Надо просто начать вести здоровый образ жизни, ну, по мере сил. Так я и сделаю».
После этого Платон с облегчением повернулся к бетонному кубу спиной и зашагал в сторону дороги, ведущей к лучшему будущему. А потом обзвонил всех своих знакомых и предупредил их, что если они собираются помереть, то на своих похоронах могут его не ждать, потому что он не придёт. «Сами уж как-нибудь разбирайтесь, – сказал Платон. – Я бы и на свои похороны не пошёл, да нет выбора, понесут ведь…»
Так он теперь и живёт – с чувством стойкого отвращения к похоронам и лечебным учреждениям.