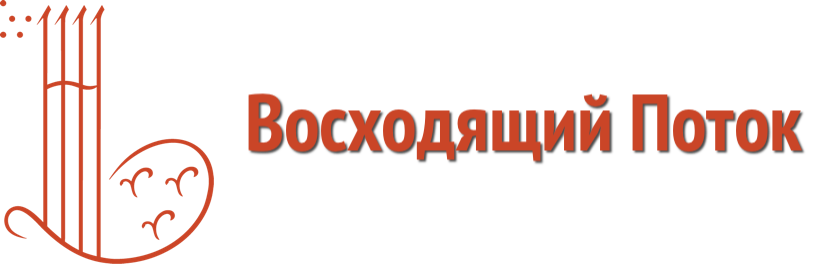С годами Платон начал терять интерес к людям. Нельзя сказать, что ему всё с ними стало понятно; скорее, он понял для себя какие-то основные моменты своего отношения к ним и их отношения к нему, а остальные подробности их частного прижизненного существования стали ему безразличны. Поэтому, попадая в новые компании, Платон сидел тихо, участвуя в разговорах только из необходимости их поддержания и сохранения тонкого баланса непринуждённости, принятой в данном кругу. Если же ситуация этого не требовала и люди обходились в беседах без Платонова мнения, тогда он оставлял его при себе; а чаще всего даже не пытался его придумывать.
Однажды Платон очутился в компании разнообразных замечательных людей, среди которых, как выяснилось, был мужчина, представленный тамадой как покоритель Эвереста. Дескать, в прошлые года своей жизни этот, по всей видимости, выдающийся человек в одиночку забрался на вершину огромной горы, а потом так же в одиночестве с неё спустился. Платону было не совсем понятно, было ли главным достижением одиночество его усилия или же само по себе удачное восхождение тоже могло быть приравнено к некоему, пусть нестандартному и отчасти бессмысленному, но всё-таки – подвигу. Выяснить этот вопрос у сидевших рядом гостей Платон постеснялся, чтобы не предстать перед ними этаким деревенским дурачком, а потому продолжал сидеть тихо, время от времени улыбаясь на всякий случай.
Покоритель Эвереста занимал место на противоположной от Платона стороне праздничного стола, и хоть находился в некотором отдалении, для его разглядывания Платону не требовалось особенного напряжения зрения. В покорителе было что-то, явно отличавшее его от прочих замечательных личностей, собравшихся на праздник. Сидел он слегка сгорбившись, глядя прямо перед собой и почти не реагируя на реплики тамады, который старательно юморил на радость всем присутствующим. Была в его облике некая отрешённость и даже загадочность вкупе с диковатым взглядом, который Платон подмечал, когда покоритель иногда поднимал взор от своей тарелки, прихлёбывал томатный сок из высокого стакана и смотрел по сторонам.
«Вот, – думал Платон, – сидит передо мной необыкновенный человек, к которому не применимы наши обывательские мерки и среднестатистические суждения. Человек, который до сих пор пропитан отчуждённостью покорённой высоты, и она, эта высота, позволила ему превзойти земное, приблизившись к небу. Где, стоя над всеми, он познал нечто, изменившее его навсегда. Куда он ушёл один, и, вернувшись, так и остался одиноким орлом и волком, презревшим суетность всякого рода застолий и пустословия. Чувствуя себя иным среди однообразных, и толком не зная, зачем ему с ними оставаться…» Так думалось Платону, пока он искоса посматривал на видного, хотя и странного, мужчину, практически не менявшего ни позы, ни выражения лица и лишь изредка улыбавшегося какой-то растерянной полуулыбкой.
Наконец, любопытство взяло верх над робостью, и Платон повернулся к соседке по столу и спросил:
— Скажите, пожалуйста, а вот этот покоритель Эвереста, он всегда такой отстранённо-замкнутый?
— Нет, что Вы, – ответила миловидная пожилая женщина, тоже в прошлом покорившая несколько горных вершин поменьше размерами. – Просто Аркадий год назад перенёс инсульт, и теперь он немного заторможен, и, так сказать, слегка замкнут.
Платон понял, что несколько поспешил с выводами. Снова взглянув на покорителя Эвереста, Платон вдруг увидел, что взгляд у него растерянно-затравленный, а отчуждённость, она, конечно, имеется, но явно вследствие некоторого расстройства внутренних мозговых процессов… Тьфу, какая напасть, надо же так промахнуться, вообразив себе невесть что и сбоку бантик. Хотя с кем, конечно, не бывает – как их разберёшь, этих покорителей вертикальных пространств.
В этот момент покоритель неуверенно поднялся из-за стола и шаткой походкой двинулся по направлению к туалету. Непрошенная жалость как-то вдруг заполнила сердце Платона. Ему почудилось, что вот был человек один в неведомой высоте, а спустившись, оказался также один в праздничном застолье, и поход в туалет теперь для него тоже выглядит как испытание на прочность и мужество.
«Ну уж нет, – сказал Платон сам себе, – второй раз я на это не поведусь, хватит. Не лазал бы по горам, глядишь, и не было бы у него никакого инсульта, сидел бы сейчас как все и пил бы водку, а не томатный сок. Скромней надо быть и приземлённее, не искушая ни себя, ни людей, ни судьбу свою горемычную». Настроение, конечно, у него испортилось, и Платон быстренько откланялся, а откланявшись, отправился домой, где его никто не ждал и потому не нужно было вникать ни в чьи чувства и истории суматошной, наполненной бессмысленными достижениями и провалами жизни. Где можно было посидеть перед телевизором, намешав себе водки с соком, и посмотреть на что-нибудь более интересное, чем обычная жизнь замечательных людей.