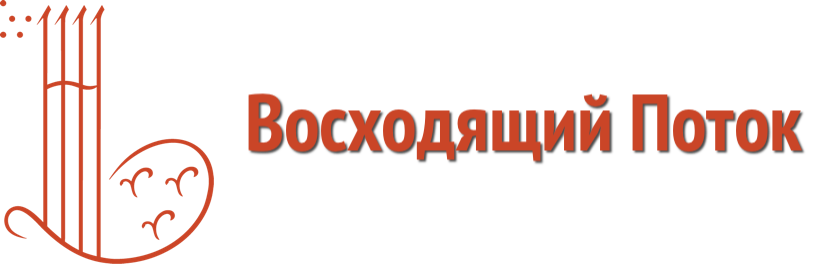Хорошая жизнь подобна горной реке, текущей вспять: где каждый поворот, водоворот и порожек поднимают её на новую высоту. Жизнь Платона Бережкова в разные свои периоды напоминала то стоячую воду, то ровное течение по замкнутому кругу, и только со второй её половины начался этот самый подъём в гору. И тогда новые, доселе неизвестные, качества личного бытия открылись ему во всей своей мелкобуржуазной красе.
Очередной порог его жизненной реки привёл Платона в новый дом, в котором, помимо прекрасной квартиры, жили столь же прекрасные соседи. Они повально увлекались горными лыжами, любили совершать прогулки на собственных яхтах, всегда прощались, выходя из лифта на своём этаже, и вообще всем своим видом давали понять, как неплохо, в целом, у них идут дела. Платон видел горные лыжи (да и сами горы тоже) только по телевизору и потому чувствовал себя немного неуютно среди своих новых соседей. Вечно небритые похмельные мужики и сварливые старушки с котомками из его прошлой жизни были ему не то чтобы милее, но просто немного понятнее.
Тем не менее приспосабливаться к новой, высшей для Платона среде как-то было нужно. Познакомиться, например, с соседями поближе. Сблизиться – это вряд ли, но хотя бы обрести формальные знакомства, чтобы было, у кого занять соли. Или пару тысяч долларов до получки.
И вот, наконец, Платон с женой пригласили себе соседей в гости, а те и пришли. Это была довольно милая семейная пара, она – риэлтор, он – конструктор. Что-то хорошее у них происходило в жизни, какие-то проекты и прочее, о чём немного и поговорили. Платон был вежлив, корректен и почти не пил. Сосед же, напротив, пил много и как бы отчаянно, всё время подливая самому себе немецкой настойки, которую сам же и принёс. Женщины вкушали ром и рассуждали об Италии и тамошних ресторанах. Платон сидел и ждал, чем всё это закончится. О себе рассказывать Платону не хотелось, потому что легальным его прорыв из грязи в князи назвать было трудно, а потому приходилось вести себя умеренно, достойно и благообразно.
Соседа тем временем развозило всё сильнее, и Платон даже подумал сгоряча, что это быстрое опьянение напоминает ему некие симптомы, но тут гости засобирались домой, в свою большую квартиру, и подались в прихожую одеваться. Получилось так, что к Платону они пришли с улицы, возвращаясь из других мест, а поскольку на дворе уже стояла ранняя зима, то и одежда у них была соответствующая. Сосед надел шапку из тонкой шерсти, похожую на длинный серый носок без резинки. Жена Платона немедленно сказала, что ему, Платону, надо бы купить похожую шапку. Платон, в общем, и сам думал о чём-то подобном, поэтому возражать не стал. Как говорится, новой жизни был нужен новый имидж. Тогда сосед, недолго думая, сорвал с себя шапку и напялил её на голову Платона. А напялив её, застыл как громом поражённый. «Высокий лоб, – пробормотал сосед, как бы ощупывая взглядом физиономию Платона, – умные глаза еврейского мальчика… Ты еврей?»
Платон понял, что попал на трудный выбор. В том, что его сосед был евреем, сомневаться не приходилось, здесь, что называется, всё было понятно без генетической экспертизы. Родословная Платона была темна как южная ночь, а потому определённости с национальностью в ней не было. В старом советском паспорте он значился русским, но некоторые знакомые не раз намекали Платону, что всё не так просто и что не такие у него мочки ушей и взгляды на жизнь, какие присущи нормальным русским людям. Был момент, когда Платон уже засомневался в своей национальной сути, но родители привычно отвергли его подозрения и сомнения в родовой национальной идентичности, заявив, что никаких евреев ни по какой линии родословной у них никогда не наблюдалось. Впрочем, никого дальше Платоновых дедов и бабок родители и сами не знали. Жили все так, что связь поколений рвалась быстро и бесповоротно. С другой стороны, какая уж тут связь, когда одних убили, а других раскулачили, и в процессе раскулачивания убили тоже.
В общем, о национальности своей Платон давно не думал, не считая себя человеком мира, но чувствуя себя этаким перекати-полем – без рода и без племени. Поэтому вопрос пьяного соседа застал его врасплох, а ответить надо было в уровень. Но попробуй-ка, будучи трезвым, говорить в уровень с тем, кто уже нарезался и видит мир иначе. Одновременно с этим Платон подумал, что евреев в его новом доме примерно половина от всех живущих, и породниться с ними, хотя бы на словах, может, было бы и неплохо. Как говорится, хочешь вписаться, так вписывайся по полной программе.
В общем, Платон слегка поплыл и стал смущённо нести, что были у него в роду какие-то евреи, но точно это или не точно, понятно пока не вполне, хотя некоторые признаки, конечно, нельзя отрицать и невозможно не заметить, а внутреннее чувство чего-то возвышенного время от времени возникает без видимой причины…
— Обрезан? – строго спросил сосед, которого сбивчивое бормотание Платона явно не удовлетворило.
— Нет! – выдохнул Платон, понимая, что провалил простой экзамен в основном его пункте.
Сосед тут же потерял к Платону всякий интерес и, надев шапку, подался на выход. Жена Платона, стремясь сгладить ситуацию, весело сказала, что, дескать, нам и без обрезания хорошо, и что есть в крайней плоти некая своя прелесть, лишаться которой как бы и нет смысла. Шутка не имела успеха, и соседи ушли восвояси. Платон остался стоять в прихожей, всерьёз задумавшись о своей самоидентификации. Подобно небезызвестному герою Достоевского, он размышлял на тему «я тля подзаборная или право имею». И поскольку круглым дураком Платон никогда не был, то ему вскоре стало понятно, что право определяет он сам и никто больше, а значит, можно считать себя евреем, невзирая на разные там обрезания и прочие сионистские условности.
«Вот спросит меня кто-нибудь о том, еврей я или нет, – так скажу еврей, и дело с концом», – решил Платон, внутренне закрывая для себя скользкую национально-жилищную тему. Никто, впрочем, его больше об этом не спрашивал, но Платон всё равно ощутил новое душевное спокойствие и вскоре проникся едва ощутимым презрением к тем, в ком не видел признаков принадлежности к своей нации. Так он дальше и жил: не блюдя субботу, не обрезавшись и, в общем, вполне безбожно. И в вопросе, что же даёт большую избранность человеку – национальность или вера, Платон склонялся к тому, что в разные времена полезным может быть и то и другое; нужно лишь не перепутать, выбрав не ту веру или нацию, которые в данный момент подвергаются тотальному истреблению. И тогда будет полный порядок – и с жильём, и с жизнью, которая так и будет поднимать тебя всё выше, пока, наконец, не завершится достойной заслуженной смертью. А что нарисуют на твоём могильном камне и кто проведёт погребальный обряд – не столь уж важно для того, кто достиг своей вершины в этой жизни, отправившись в мир иной. А там, если вера всё-таки окажется важной, как-нибудь приспособимся, обрежемся или что там потребуется – сделаем. Ну а если там не будет ничего, то и беспокоиться совсем не о чем, слава богу.
Так думал Платон, внутренне гордясь своим выбором, разумным и взвешенным. От которого, впрочем, всегда можно было откреститься – во всех смыслах этого прекрасного русского православного слова.